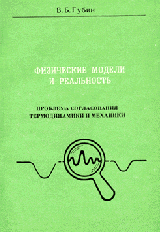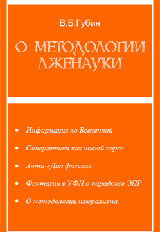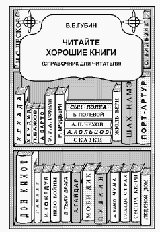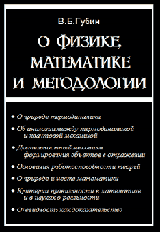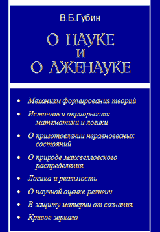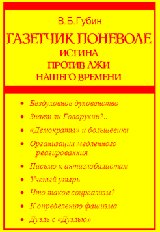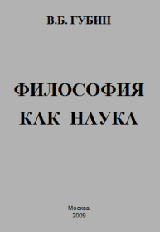|
Страница 4 из 21 II. 3. Вторая глава - «Знать и видеть» - главная в плане постановки и предложения по решению проблемы. В ней утверждается: «На протяжении истории человечества неоднократно признавалось, что человеческий ум располагает двумя способами познания, двумя типами сознания, которые часто обозначались как рациональный и интуитивный, и традиционно ассоциировались с наукой и религией.» (С. 22) Ну, мало ли кто что признавал? Например, на протяжении последних двух веков многие неоднократно и традиционно утверждали, что они - Наполеоны. Их еще почему-то, по крайней мере временно, селили в желтых домиках. Капра как-то странно представляет себе основательность доводов.
Кроме того, у него видно явное передергивание существа дела. Мы не стали бы спорить с признанием важности интуиции в познании. Но выделять ее в самостоятельный тип познания, а не в сорт догадки вероятностного характера, требующий в дальнейшем проверки и упорядочения рациональным знанием, недопустимо. Но он это делает, опираясь всего лишь на то, что мы не отрицаем вообще важности интуиции в познании.
«На Западе интуитивный, религиозный тип познания нередко считался менее ценным, чем рациональный, научный тип познания, в то время как на Востоке было распространено противоположное мнение.» (С. 22) И опять же: мало ли кем что считалось? Капра, выступая в книге как ученый, должен был и говорить от лица науки, а она отрицает религию. Но он говорит, как будто ставит на один уровень, в один ряд, как равные истину и заблуждения. Кроме того, как-то досадно становится от его настоятельного связывания интуиции с религией. Фактически получается, что он неявно старается связать, отождествить интуицию с мистикой, что для ученых совершенно неприемлемо. Ученые знают об интуиции, но ничего мистического, сверхчувственного, сверхъестественного в ней не видят. Так, математик и мыслитель Пуанкаре писал: «...недостаточно одной логики; ... наука доказывать не есть еще вся наука и ... интуиция должна сохранить свою роль как дополнение - я сказал бы, как противовес или как противоядие логики ([13], с. 165). ... логика и интуиция играют каждая свою необходимую роль. Обе они неизбежны. Логика, которая одна может дать достоверность, есть орудие доказательства; интуиция есть орудие изобретательства.» ([13], с. 167)
Затем Капра переходит к конкретному объяснению дефектности обычного научного познания.
«Рациональное знание ... относится к области интеллекта, функция которого - различать, разделять, сравнивать, измерять и распределять по категориям. (Замечу, что все эти функции свойственны ощущению, без которого человек как нечто, отличное от просто материи, не существует, см., напр., ([14], глава 4). Соответственно, без подобных действий человек вообще не может обойтись. - В.Г.) Так возникает мир интеллектуальных разграничений, мир противоположностей, не существующих друг без друга...
Уязвимое место данного подхода - абстрагирование, поскольку для того, чтобы сравнивать и классифицировать огромное количество различных форм, структур и явлений, мы не можем использовать все их характеристики, и должны выбирать несколько наиболее важных. (Тут немедленно вспоминается поучение Ленина выбирать главное звено в цепи причин, событий и обстоятельств, поскольку всех причин и обстоятельств ухватить невозможно. Так что выделение только самого важного - вещь отнюдь не новая. Во-вторых, ведь это «абстрагирование» неизбежно начинается еще на этапе ощущения, которое уже есть упрощение, огрубление, выбор главного в каком-то отношении, установление границ и, соответственно, структур в отражении материала, которых, таких четких, нет в самой отражаемой реальности. - В.Г.)
Однако мир ... полон разнообразия и отклонений от норм. В нем нет абсолютно прямых линий и правильных форм. ... Понятно, что при помощи системы абстрактных понятий полностью такой мир описать нельзя, так же, как нельзя покрыть сферическую поверхность Земли плоскими картами. Мы можем надеяться лишь на приблизительное представление о реальности, и поэтому рациональное познание изначально ограничено в своих возможностях.» (С. 23-24) Здесь уместны два замечания.
1) Можно подумать, что автор старается своими словами кратко изложить часть содержания «Материализма и эмпириокритицизма», касающуюся невозможности точно отразить в теориях (и вообще в познании) абсолютную истину, так что приходится довольствоваться лишь относительной.
2) Однако Капра проходит мимо факта, что возможности всё более точно отразить реальность и приблизиться к абсолютной истине априорно не ограничены. Так, он откровенно опускает очевидный факт, что усложнением «абстрактных» конструкций из идеальных элементов в принципе можно сколь угодно точно приближать их к желаемой картине, скажем, как в случае аппроксимации функции удлинением ряда по базисным функциям или путем уменьшения отрезков при подсчете длины кривой линии, на чем вообще и основано интегрирование. И упоминаемую им поверхность Земли в принципе можно сколь угодно точно отобразить набором плоских картинок. Кстати, он сам не заметил, как без особых потерь для смысла и существа дела воспользовался термином «сферическая» для указания формы Земли, хотя она, конечно, в строгом смысле слова сферической не является. И ничего страшного не произошло: все поняли, что он хотел сказать, и полностью удовлетворены. Такая допустимость человеком и всем ощущающим неабсолютной точности получаемых результатов, выражения или описания реальности также есть важный фактор [14,15], которого он не учитывает при оценке «западного», научного, рационального способа познания как в принципе дефектного. Таким образом, его утверждение об изначальной ограниченности рационального познания не может так уж впрямую относиться к адекватной оценке процесса познания.
|